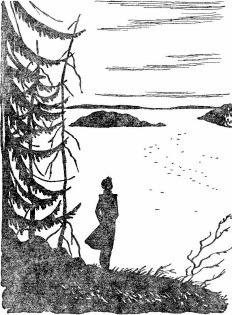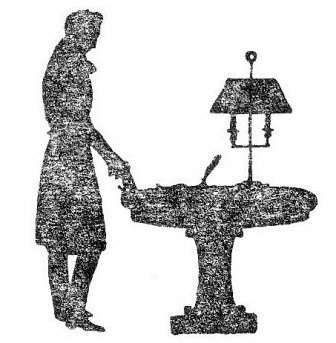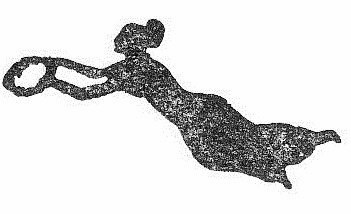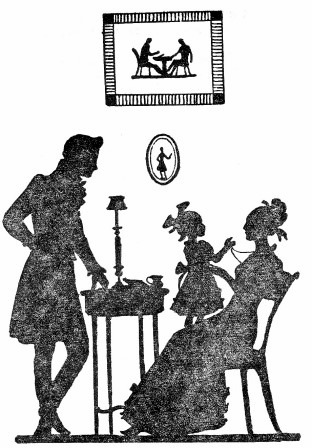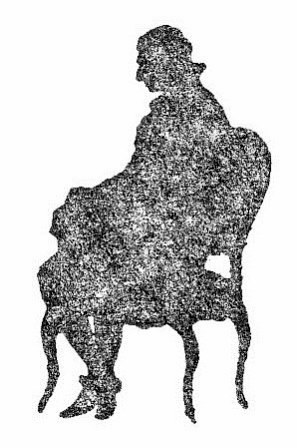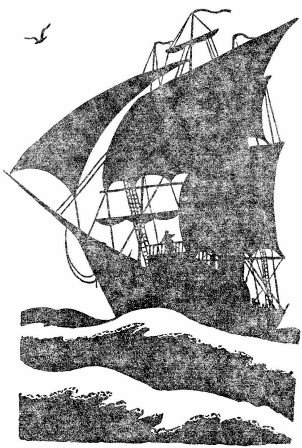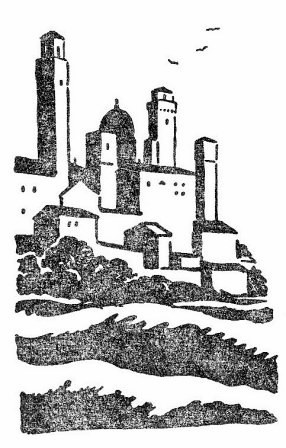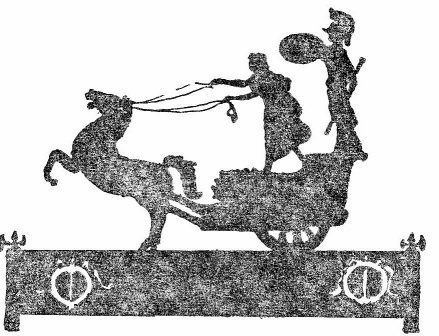Е.А. БАРАТЫНСКИЙ
СТИХОТВОРЕНИЯ
Предисловие
ОРИГИНАЛЕН — ИБО МЫСЛИТ
(П.А. Стеллиферовский)
 Худ. Ю. Игнатьев«Из всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место бесспорно принадлежит
Худ. Ю. Игнатьев«Из всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место бесспорно принадлежит
г. Баратынскому». Не исключено, что эти слова несколько удивят кого-то из нас, читателей конца XX века, открывающих — может быть, впервые? — книгу стихов давно жившего поэта. Конечно, авторитет взыскательного Белинского, которому они принадлежат, высок, но все-таки вдумайтесь: первый после Пушкина, чье имя давно стало эталоном правды и таланта в литературе. Не слишком ли смелое утверждение?
Сам Пушкин подтверждает, что нет. И лучше, чем он, никто об этом, пожалуй, не сказал: «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален — ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко. Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого, хоть несколько одаренного вкусом и чувством».
Может быть, и Пушкин не всех убедил — ведь так давно это было? А вдруг в его суждениях перевесила долгая и крепкая любовь к близкому другу и собрату по музам? Что ж, давайте решать самостоятельно: книга перед нами — надо лишь начать... Но скажу сразу: чтение легким не будет, хотя Баратынский большой мастер слова. Дело в том, что его произведения не совсем привычны. Их автор — поэт-философ, или, как говорили в старину, «поэт мысли». Делясь с читателями откровениями своей поэтической философии, Баратынский требует истинного сотворчества, ответной работы ума и сердца. Не сразу
открывается напряженный мир его дум и переживаний. Не вдруг ощущаешь высокую и трагичную красоту глубоко выстраданных стихов.
Но происходит это, и ты уже не можешь бесстрастно отложить книгу в сторону. «Читая Баратынского,— будто бы специально для нас говорил полтора столетия назад Белинский,— забываешь о поэте и тем более видишь перед собою человека, с которым можешь не соглашаться, но которому не можешь отказать в своей симпатии, потому что этот человек, сильно чувствуя, много думал... Мыслящий человек всегда перечтет с удовольствием стихотворения Баратынского, потому что всегда найдет в них человека — предмет вечно интересный для человека».
Многие высокие умы России ценили поэзию Баратынского. При жизни — Пушкин, Жуковский, Рылеев, Кюхельбекер, Дельвиг, Вяземский, Иван Киреевский, Гоголь, Владимир и Александр Одоевские... Позже Тургенев, Лев Толстой, Бунин, Блок, Брюсов, Есенин, Горький... Труд Баратынского вдохновлял видных советских мастеров слова более близкого к нам времени.
Не менее любим поэт и сейчас, в конце XX столетия. Он дорог и интересен нам бесстрашием своей мысли и высотой чувств, человечностью и поэтической честностью, непримиримостью к подражательству. И не только творческому. В жизни и в поэзии Баратынский всегда шел, по слову Пушкина, «своею дорогой один и независим», требуя от себя и других незаемности чувств, мыслей, слов, поступков. Вызывает глубокое уважение его тщательная работа над стихом, многократное возвращение к написанному, переделка опубликованного.
Если вдуматься, эти качества человеческого и поэтического таланта Баратынского, его постоянный поиск истины жажда правды и красоты на удивление созвучны нашему времени.
***
Евгений Абрамович Баратынский прожил сравнительно короткую — всего 44 года — и небогатую внешними событиями жизнь. Познал и радости, и обиды, и горечь утрат, и счастье обретений, сладость и тяжесть поэтического вдохновения и заботы повседневного труда во имя близких. Жил скромно, сдержанно, порядочно, не изменяя себе и выполняя свой долг — гражданина, поэта, семьянина.
Он родился 7 марта (19 — по новому стилю) 1800 года (по другим сведениям, дата рождения поэта —
19 февраля) в небольшом поместье Мара Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Детство было счастливым. Маленький Бубинька, как ласково называли его родные, рос в дружном семейном кругу. Живо впитывал неспешные впечатления деревенского бытия, чутко откликался на доброту и заботу. С ранних лет накрепко привязался к родному краю, часто потом приезжал сюда, в разные минуты жизни нередко мысленно обращался к «родным степям» и «дубравам мирным» и навсегда сберег в сердце свою «начальную любовь» к местам детства.
Мальчику едва минуло десять лет, как умер его отец, отставной генерал-лейтенант Абрам Андреевич
Баратынский. Семейные тяготы легли на плечи Александры Федоровны, матери будущего поэта, оставшейся с семью маленькими детьми. В результате ее хлопот Евгений, старший сын, был по высочайшему указу зачислен в Пажеский корпус, одно из самых престижных военно-учебных заведений того времени. Его ожидала блестящая карьера, но жизнь распорядилась иначе.
Поначалу, искренне желая заслужить одобрение воспитателей и стремясь оправдать надежды матери, мальчик прилежно учился, отличался примерным поведением. Он много читал, занимался переводами с французского, который хорошо знал с самого детства, увлекался математикой и рисованием. Но Пажеский корпус не Царскосельский лицей, где в то время учились будущие друзья поэта — Пушкин, Дельвиг, Кюхельбекер. Здешние преподаватели оказались людьми педагогически неподготовленными, а зачастую и малообразованными. По отзывам воспитанников, они не имели ни времени, ни желания всерьез заниматься своим делом и ограничивались «внешним соблюдением форм и приемов», довольствуясь «безотчетным послушанием страха ради». Не обрел Баратынский и того дружеского круга, что сложился у лицеистов.
Тоскуя по дому и начитавшись романов о благородных разбойниках, впечатлительный подросток составил «Общество мстителей», проделки которого, в общем не выходившие за рамки детских шалостей, естественно, не понравились начальству. Одна из них оказалась действительно серьезным проступком, и Баратынского исключили из корпуса и отдали родственникам. Ему было запрещено поступать на государственную и военную службу, разве только «попроситься в солдаты». По понятиям того времени, такая неопределенность общественного положения означала для дворянина практическое лишение гражданских прав. За вину подростка должен был долгие годы расплачиваться взрослый человек. Случившееся круто переменило всю жизнь Баратынского и наложило тяжелый отпечаток на его дальнейшую судьбу.
Прошло почти три года мучительных переживаний. Потеряв надежду на скорое прощение, о котором
хлопотали родственники и знакомые семьи, осенью 1818 года Баратынский вновь приехал в Петербург и через несколько месяцев поступил рядовым в лейб-гвардии Егерский полк, расквартированный в столице.
Он приехал, по собственному выражению, «с мадригалом в кармане», ощущая в себе бурно зреющий
поэтический дар. В одном из отроческих писем к матери неудавшийся паж, рассуждая о смысле жизни и назначении человека, признавался: «...Я больше всего люблю поэзию. Я очень бы хотел быть автором». С годами эта любовь нарастала, но ей не хватало дружеской и творческой питательной среды. И вот теперь Баратынский, познакомившись с лучшими столичными литераторами, наконец-то обрел единомышленников. Особенно тесно он сошелся с недавними лицеистами, которые приняли его в свой «союз поэтов» и стали верными друзьями.
Дворянское звание и положение вольноопределяющегося освобождали Баратынского от ряда тягот
солдатской службы, которая отнимала сравнительно немного времени. Пользуясь правом жить на частной квартире, он поселился вместе с Дельвигом. Бывал на поэтических «средах» Жуковского и «субботах» Плетнева. С Пушкиным и Дельвигом посещал заседания общества «Зеленая лампа», литературного филиала декабристского «Союза благоденствия».
В самом начале 1819 года в журнале «Благонамеренный» появляется несколько его стихотворений. Еще
две-три публикации, и имя Баратынского становится известным. Лучшие журналы и альманахи стремятся заполучить его произведения, критики дружно хвалят оригинальный талант. В январе 1820 года Баратынского избирают членом-корреспондентом, а через год с небольшим — действительным членом «Вольного общества любителей российской словесности». «Не знаю,— заметит позже он об этом времени,— удачны ли были опыты мои для света; но знаю наверно, что для души моей они были спаси тельны».
Вскоре Баратынский испытал новый «судьбы переворот». 4 января 1820 года он произведен в
унтер-офицеры, но не оставлен в гвардии, а переведен в Нейшлотский пехотный полк, расквартированный в Финляндии. Казалось бы, добрый знак: началось продвижение по службе, конечная цель которого — офицерский чин, дающий общественное положение и свободу выбора. Но современники поняли истинный смысл перемен. Нарушение порядка производства (при переводе из гвардии в армию обычно присваивался внеочередной чин) и удаление из столицы в глухую провинцию были не признаками скорого прощения, но недовольства поведением молодого человека, находившегося «на замечании».
В одном из доносов его стихи упомянуты в числе не благонадежных, а сам он вместе с товарищами обвинен в желании «блеснуть своим неуважением правительства». Южная ссылка Пушкина и финляндское изгнание Баратынского стали звеньями одной цепи. Именно поэтому Герцен позже назвал имя поэта среди тех, кто «осмелился поднять голову выше уровня, начертанного императорским скипетром».
Лишь весной 1825 года после многочисленных прошений и ходатайств пришло долгожданное избавление. Получив офицерский чин, Баратынский вышел в отставку и поселился в Москве. В июне 1826 года он женился на Анастасии Львовне Энгельгардт, ставшей ему не только доброй женой, но и умелой помощницей в литературных делах.
Живя в Москве, Баратынский попытался еще раз обелить себя в глазах правительства и поступил на службу в Межевую канцелярию. Но хватило его ненадолго. Еще в 1825 году, находясь в Финляндии, поэт признавался своему сослуживцу и другу Н. В. Путяте: «Не рожден я для службы царской». Вот и теперь сообщал ему: «Не гожусь я ни в какую канцелярию...» Примерно тогда же он писал И. В. Киреевскому, с которым подружился в Москве: «Пора мне приняться за перо: оно у меня слишком долго отдыхало. К тому же чем я более размышляю, тем тверже уверяюсь, что в свете нет ничего дельнее поэзии». Это уже окончательный — на всю жизнь — выбор своей судьбы, ибо, как твердо заявил Баратынский в одном из писем, «настоящее место мое в мире поэтическом».
Ко времени переезда в Москву Баратынский был уже вполне сложившимся поэтом, известным не только кругу друзей, но и широкой публике. Его перу принадлежали ставшие знаменитыми элегии «Разуверение», «Ропот», «Уныние», «Дельвигу», «Две доли», «Безнадежность», «Истина», «Признание», «Череп», которые принесли их автору, по выражению Пушкина, титул «нашего первого элегического поэта». За создание стихотворения «Финляндия» современники нарекли его «певцом Финляндии».
Естественно, что в начале творческого пути Баратынский учился у предшественников. В ранних произведениях «Певца Пиров и грусти томной», как назвал его Пушкин в третьей главе «Евгения Онегина», чувствуется близость русских и французских элегиков конца XVIII — начала XIX века, слышны отзвуки державинской лиры, видна дружба с музой Жуковского и Батюшкова. Но лишь немногие литературные традиции и веяния находили отклик в стихах Баратынского — он брал у других только свое.
Уже в первых стихотворениях Баратынский заявил о себе как о самобытном поэте философского склада. Элегии, дружеские послания, поэмы, эпиграммы, прозаические опыты — какой бы темы ни касалось его перо, в какую бы форму ни облекал он свое слово, на всем лежал отпечаток углубленного раздумья о мире и человеке в нем. За каждым фактом, событием Баратынский стремился увидеть закономерность, из частного явления сделать всеохватный вывод. На глазах у читателей традиционные элегические ситуации, своего рода поэтические штампы, получали одновременно конкретное психологическое и обобщенное философское истолкование. Это делало лучшие произведения Баратынского маленькими исследованиями с афористическими заключениями.
Счастливцы нас бедней, и праведные боги
Им дали чувственность, а чувство дали нам.
«К-ну», 1820
Нe вечный для времен, я вечен для себя...
Мгновенье мне принадлежит,
Как я принадлежу мгновенью!
«Финляндия», 1820
Не упоения, а счастья
Искать для сердца должно нам.
«К...ну», 1821
Одну печаль свою, уныние одно
Унылый чувствовать способен.
«Уныние» 1821
Не властны мы в самих себе
И, в молодые наши леты.
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.
«Признание» 1823
Баратынский принадлежал к поэтам романтического направления, выразившего остроту драматических перемен русской жизни в первой трети XIX столетия. Отечественная война 1812 года и рост самосознания победившего народа, создание тайных обществ, объединявших лучшие умы и сердца нации, надежды на политическое, экономическое и духовное раскрепощение страны — вот что рождало тогда новые идеалы, вселяло веру в их достижение, творило пламенные мысли и строки.
Ужесточение крепостнических порядков, своеволие бездушной государственно-бюрократической машины, гонения на свободолюбивое слово — вот что губило «души прекрасные порывы», приносило неверие и разочарование.
«Вынужденные молчать, сдерживая слезы,— писал после поражения декабристов в трактате «О развитии революционных идей в России» А. И. Герцен,— мы научились, замыкаясь в себе вынашивать свои мысли — и какие мысли! Это уже не были идеи просвещенного либерализма, идеи прогресса,— то были сомнения, отрицания, мысли, полные ярости...» Противоречие между желаемым и действительным, разлад между идеальным и существующим стали творческой и социальной первопричиной романтических настроений.
Поэт-философ, склонный к универсальным обобщениям, счел эту ситуацию отсветом изначальной борьбы двух составных жизни: материальной и духовной. В человеке они явлены в виде «телесной» и «умственной» природы («Последняя смерть», 1827). Духовное начало суть возвышенное, истинное. Материальное чуждо «искре небесной» («Дельвигу», 1821). Это противоречие, по Баратынскому,— внутренний источник трагедии человека, для которого настоящая жизнь есть жизнь духа.
Такое мироощущение обусловило в его творчестве характерное для романтизма возвеличивание духовного и враждебное отношение ко всему, что не проникнуто возвышенной идеей. Этой мысли Баратынский останется верен всегда. Отсюда у него — и привычная для романтиков поэтизация гармонической древности в противовес разъедающему душу рационализму «железного века», который несет человеку одни страдания. Позднее противоборство враждебных в человеке сил Баратынский перенесет на все явления бытия, включая и общественные, а несовершенство людей объяснит несовершенством мироздания («Последний поэт», «Приметы», «Рифма»).
Противостояние материального и духовного в мире и в человеке видится Баратынскому по-разному, в виде единоборства чувства и рассудка, мечты и реальности, надежды и опыта, веры и истины. Поэзия же, как высшее воплощение духовности, противоположна «холодности, прозаизму, положительности и вообще исключительному стремлению к практической деятельности» (выражение И. В. Киреевского из статьи «Девятнадцатый век»). «Прекрасное положительнее полезного» — так образно определил свое кредо Баратынский.
Но мы погрешили бы против истины, сказав, что подобные романтические представления исчерпывали суть раздумий «Гамлета-Баратынского», как однажды назвал его Пушкин. Настоящий поэт творит не по теоретическим предписаниям, а в меру собственного таланта. До конца своих дней Баратынский искал выход из тупика, стремясь вернуть миру и человеку утерянное счастье и гармонию.
Заинтересованный читатель сам может в этом убедиться, проследив, как на протяжении всего творческого пути решалась Баратынским столь важная для русской литературы тема «поэта и поэзии». Верно заметил Белинский, что мысль его «является в скорбях рождения» и выходит «не из праздно мечтающей головы, а из глубоко растерзанного сердца».
В поэтической философии Баратынского, основы которой сложились уже к середине 1820-х годов, кроме отрицания действительности, было и утверждение творческой самостоятельности и личной независимости, прославление свободолюбивых порывов духа и вера в высокое назначение художника. Было понимание искусства как активной и действенной общественной силы и протест против ростовщических методов и «торговой логики» продажных литературных дельцов. Одним словом, Баратынский романтик не оставался в стороне от жгучих вопросов времени.
В Москве Баратынскому писалось мало и трудно, особенно на первых порах. Не было рядом Пушкина, Дельвига, Кюхельбекера, Жуковского... Много времени и сил отбирал и домашние и хозяйственные заботы. Росла семья поэта — всего у Баратынского было девять детей, двое умерли в малолетстве. Нередко приходилось наезжать в родовую Мару, где жила мать, в Тамбов, бывать по делам в Казани; после смерти тестя на Баратынского легли хлопоты о хозяйстве семьи Энгельгардтов. Да еще приведение в порядок дома в Москве и пригородного Муранова.
Но постепенно поэт сблизился с кругом московских писателей, критиков и журналистов, которые после
14 декабря 1825 года стали играть заметную роль в развитии русской общественной мысли. Среди его знакомых — члены знаменитого философского «Общества любомудрия», посетители кружка Елагиных — Киреевских, где, как считали современники, собиралось все, «что было в Москве даровитого и просвещенного — весь цвет поэзии и науки».
Своим человеком стал Баратынский и в знаменитом салоне 3.А. Волконской, где бывали многие известные литераторы, артисты, ученые. Здесь он познакомился с польским поэтом Адамом Мицкевичем. Общение с образованной литературной молодежью, прежде всего с Иваном Киреевским, стало для Баратынского подлинным университетом мысли и плодотворно сказалось на его поэзии.
Часто наезжал в Москву Пушкин. Сблизился поэт с Вяземским, Языковым, Владимиром Одоевским, Денисом Давыдовым, которых знал и раньше. Продолжалась дружеская переписка с Дельвигом.
Не оставлял Баратынский и литературных занятий. То немногое, что выходило из-под его пера, имело, по общему признанию, печать истинной поэзии и творческой оригинальности. Время от времени произведения Баратынского — стихи и отрывки из новых поэм — появлялись в петербургских журналах и альманахах, чаще всего у Дельвига в «Северных цветах». Кое-что попадало в «Московский телеграф» и «Московский вестник». Несколько стихотворений, статью «Антикритика» и прозаическую повесть «Перстень» напечатал Киреевский в своем журнале «Европеец».
В 1826 году в Петербурге отдельным изданием вышли «Эда, финляндская повесть и Пиры, описательная поэма Евгения Баратынского», ранее публиковавшиеся в журналах. Через два года там же увидели свет «Две повести в стихах», составленные из «Графа Нулина» Пушкина и «Бала» Баратынского. В 1831 году в Москве напечатано отдельное издание поэмы «Наложница», получившей позже название «Цыганка», с обширным предисловием, в котором были высказаны взгляды поэта на развитие современной литературы.
Но, конечно, самым значительным для него событием стал выход в 1827 году сборника «Стихотворения Евгения Баратынского». Сюда вошло лучшее, что было создано за недолгую поэтическую жизнь, — элегии, дружеские послания, эпиграммы. Замысел сборника родился еще в 1823 году, когда Баратынский находился в Финляндии. По его просьбе за издание взялись друзья и редакторы альманаха «Полярная звезда» Рылеев и Бестужев. Тогда по ряду причин задуманное не осуществилось. Сборник, выпущенный в Москве, был восторженно встречен читателями и критикой. Открывала его элегия «Финляндия», с которой пошла настоящая известность и поэтическая слава Баратынского.
Она же начинает и «Стихотворения Евгения Баратынского» в двух частях, изданные в Москве весной
1835 года. Из 83 произведений, бывших в книге 1827 года, сюда перешло 77, многие в сильно переработанном виде. Включено 54 новых, как уже публиковавшихся в периодике, так и впервые обнародованных. Все стихотворения, составившие первую часть, напечатаны под цифрами, без учета времени создания, часто без прежних заголовков. Видимо, они должны восприниматься как главки лирической биографии поэта, раскрывающие этапы его духовной жизни. Впервые под одной обложкой — во второй части книги — были собраны написанные в разные годы поэмы «Пиры», «Эда», «Бал», «Телема и Макар», «Переселение душ», « Цыганка».
Эту книгу Баратынский считал итоговой. С одной стороны, она вместила главное, что было написано за полтора десятилетия литературной работы. С другой — показала читателям новые грани таланта поэта, ибо все, что было создано им после декабрьской трагедии, несло в себе от печаток сильного разочарования в действительности и неверия в будущее. Это знаменитые «Последняя смерть» и «Болящий дух врачует песнопенье...», «Судьбой наложенные цепи...» и «На смерть Гете», «В дни безграничных увлечений...» и «Мой дар убог, и голос мой не громок...», «Не ослеплен я музою моею...» и «Когда исчезнет омраченье...», «К чему невольнику мечтания свободы?..» и «Чудный град порой сольется...». Баратынский решил, что это его последняя встреча с читателями, ибо новое время требует иных идеалов, другой поэзии. «Будем мыслить в молчании»,— написал он в одном из писем тех лет.
Первоначально Баратынский хотел предпослать сборнику 1835 года стихотворное предисловие «Вот верный список впечатлений...», в котором подводил итоги своих поэтических трудов и сообщал о намерении оставить перо. Но здесь же были и строки другого свойства.
Но что? с бессонною душой.
С душою чуткою поэта
Ужели вовсе чужд я света?
Проснуться может пламень мой
Еще, быть может, я возвышу
Мой голос, родина моя!
Ни бед твоих я не услышу
Ни славы струны утая
Видимо, эти сокровенные думы Баратынский не решился доверить читающей публике. А вот
П.А. Плетневу, духовно близкому человеку, другу юности, доверил: «Знаю, что поэзия не заключается в мертвой букве, что молча можно быть поэтом; но мне жаль, что ты оставил искусство, которое лучше всякой философии утешает нас в печалях жизни. Выразить чувство значит разрешить его, значит овладеть им. Вот почему самые мрачные поэты могут сохранить бодрость духа. Примись опять за перо, мой милый Плетнев; не изменяй своему назначению. Совершим с твердостию наш жизненный подвиг. Дарование есть поручение. Должно исполнить его, несмотря ни на какие препятствия...»
Литературная деятельность Баратынского в конце 1830-х начале 1840-х годов значительно сократилась. Все написанное поэт отсылал в Петербург. Несколько стихотворений появилось в «Отечественных записках», которые возглавил А.А. Краевский, сумевший привлечь к сотрудничеству и литераторов пушкинского круга — Жуковского, Вяземского, В. Одоевского, Д. Давыдова, и писателей нового поколения — Лермонтова, Соллогуба, Панаева.
Большинство же было напечатано в пушкинском «Современнике», руководство которым перешло к Плетневу. Баратынский по-прежнему считал себя представителем и продолжателем пушкинского направления в литературе, «звездой разрозненной плеяды», как он назвал Вяземского в послании, которым открыл последний прижизненный сборник стихов.
Весной 1842 года в Москве вышла тоненькая книжечка под названием «Сумерки. Сочинение Евгения Боратынского», включавшая 26 стихотворений, написанных за период с 1834-го по 1841 год (27-е — «Коттерие» — было изъято цензурой). Ни одно из публиковавшихся в прежних сборниках сюда не попало.
Первое, что должно было удивить читателей,— написание фамилии поэта через «о». Все прежние публикации, в том числе и стихотворений, включенных в «Сумерки», подписывались Баратынским. Это — его поэтическое имя, которое знали читатели, употребляли критики и под которым он вошел в русскую литературу.
Боратынским же за редким исключением, он назывался в письмах и деловых бумагах, то есть когда выступал как частное лицо — сын, муж, знакомый, служащий. Значит, «Сумерки» — это прежде всего слово человека, который в стихах выражает свое личное мнение о современной эпохе, о судьбе поэта в «железный век», о том «сне зимней ночи» (так первоначально Баратынский хотел назвать книгу), что опускается на землю, когда на ней не остается места добру и красоте.
Послание к Вяземскому, открывшее книгу и ставшее своего рода эпиграфом, тоже, видимо, должно было подчеркнуть ее особый характер. В нем есть строки, по духу очень близкие тем, что завершали «Вот верный список впечатлений...». Называя свою жизнь исполненной «тоски глубокой, Противоречий, слепоты И между тем любви высокой, Любви, добра и красоты», Баратынский признается:
Еще, порою, покидаю
Я Лету, созданную мной,
И степи мира облетаю
С тоскою жаркой и живой.
Не правда ли, между двумя поэтическими предисловиями есть самая прямая связь? Но тогда, в 1835 году, для последнего откровенного разговора время, возможно, еще не наступило. Тогда к читателям с рассказом о своей судьбе обратился поэт Баратынский, который пока не мог или не хотел ставить отчетливый знак равенства между миром собственной поэзии и тем внутренним сердечным миром, который его порождал. Теперь же со страниц «Сумерек» звучало открытое слово Боратынского – ч е л о в е к а.
Прочитайте внимательно стихотворения, вошедшие в сборник,— они расположены так, как расставил их Баратынский. Вы, без сомнения, почувствуете, что это взволнованный монолог человека, который больше не может молчать и стремится рассказать тем, кто его поймет, о самом главном для себя. Это итог многолетних поисков ответа на труднейшие вопросы бытия. Начиная с «Последнего поэта» и кончая «Рифмой», все стихотворения сборника — каждое с особой интонацией, как инструмент оркестра — сливаются в торжественный реквием прекрасному в мире и в человеке. И венчает этот крик страдающего сердца бесстрашное признание мыслителя: «Перед тобой таков отныне свет, И в нем тебе грядущей жатвы нет!»
В последние годы жизни Баратынский серьезно подумывал о переезде на жительство в Петербург. Здесь он родился как поэт, сюда тянули воспоминания, тут обосновались близкие друзья. Зимой 1840 года поэту удалось одному, без семьи, на несколько недель съездить в столицу. Это как глоток свежей воды. Свидания и долгие разговоры со старыми товарищами — как будто не было долгих лет одиночества.
Разбор с Жуковским последних произведений Пушкина, которые, по признанию Баратынского, отличаются «силою и глубиною». Академия художеств, где выставлен «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, спектакли Большого театра со знаменитой Марией Тальоне, салон Софьи Карамзиной, дочери известного писателя и историографа, встречи с Н.П. Пушкиной, знакомство с молодыми литераторами, в числе которых Лермонтов, читавший «прекрасную новую пьесу» и показавшийся Баратынскому «человеком без сомнения с большим талантом». Да, было от чего прийти в восторг и сожалеть, что окончательный переезд откладывается из-за хозяйственных дел, отсутствия денег, болезней домочадцев.
Долгое время по тем же причинам оставалась мечтой и поездка в Италию. Знакомая и любимая с детства по рассказам домашнего воспитателя, «дядьки-итальянца» Джьячинто Боргезе, она всегда представлялась сказочной страной — обителью поэзии и красоты. Лишь осенью 1843 года Баратынские отправились в путешествие. Пересекли Германию и Францию, на зиму обосновались в Париже. Здесь Баратынский познакомился со многими литераторами, часто бывал в салонах, для почитателей перевел на французский около двадцати своих стихотворений.
Встречался поэт и с соотечественниками. Это в первую очередь декабрист Н.И. Тургенев и его брат
А.И. Тургенев, давний друг, помогавший в трудные минуты жизни. Это и молодые русские революционеры, входившие в круг Герцена,— поэт и публицист П.П. Огарев, поэт и переводчик П.М. Сатин, публицисты
Н.И. Сазонов и И.Г. Головин. Вынужденные жить в эмиграции, они видели в Баратынском друга Пушкина и декабристов, дело которых продолжали, а потому считали его своим союзником в борьбе за новую Россию. Встречи с ними для Баратынского, давно мечтавшего об уничтожении крепостного права, оказались желанными и целительными.
Удивительные превращения! Чем дольше длится путешествие, тем чаще мысленно возвращается поэт в Россию. Уехав с тяжелым сердцем, он все с большей надеждой думает о судьбе Родины. Гордостью и радостью проникнуты его письма домой: «Поздравляю вас с будущим, — восклицает Баратынский в преддверии нового, 1844 года,— ибо у нас его больше, чем где-либо... поздравляю вас с тем, что мы в самом деле моложе 12-ю днями других народов и посему переживем их, может быть, 12-ю столетьями» .
Весной 1844 года Баратынские сели на пароход, идущий из Марселя в Неаполь. Во время переезда сложилось стихотворение «Пироскаф», читая которое сегодня, ясно чувствуешь, что в душе поэта совершался перелом, и она, как он сам писал в середине 1830-х годов, отныне «разрешена от всех своих скорбей»:
Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою
Радостен ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ!
Этими настроениями наполнены и письма домой из Неаполя, где Баратынские, почти ни с кем не общаясь, наслаждались красотой «Элизия земного». Там родилось стихотворение «Дядьке-итальянцу», пронизанное светлой грустью о прошлом — той грустью, которая бывает у человека, когда он задумывается о будущем. Как и «Пироскаф» — оба были посланы в Петербург для публикации в «Современнике»,— оно почти не переправлялось (редчайший случай!) поэтом. Так искренне и легко, от всего сердца писалось Баратынскому. Может быть, впервые в жизни. Во всяком случае, в последний раз.
Утром 29 июня (11 июля — по новому стилю) Евгений Абрамович Баратынский скоропостижно скончался. Через год кипарисовый гроб с останками поэта был перевезен из Неаполя в Петербург и захоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры, близ Крылова, Гнедича и Карамзина. Через пятнадцать лет рядом с мужем положили Анастасию Львовну.
***
Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.
Сказано скромно, достойно и честно, как все у мастера, вписавшего одну из лучших страниц в золотую книгу русской поэзии.
(После каждого стихотворения указан год его создания. Если он точно неизвестен, дата заключена в скобки. Это значит, что стихотворение написано не позднее данного года — времени первого появления в печати. Даты со знаком вопроса — предположительные и основаны на косвенных сведениях).