КОПЫТО
(М. Пришвин)
 Рис. Л.Никитина
Рис. Л.Никитина
Ровно двенадцать лет тому назад, в 1926 году, я приехал в Сергиев (ныне Загорск) и несколько дней потерял там в напрасных поисках квартиры: никто не хотел пускать меня с пятью охотничьими собаками.
Мне пришлось купить кое-какой домик с пустырём и тут устраиваться на долгое житьё. Тарасовна, соседка моя справа, держала коз. Сосед слева был драч. К нему приводили старых и увечных лошадей, он их колол, сам пользовался мясом, шкуры отдавал хозяевам, а кости растаскивали чужие собаки. (Теперь это давно покончено, сосед служит сторожем на бойне).
Заборов между нашими участками никаких не было. Множество обглоданных собаками и обветренных костей белелось на моём участке. Козы Тарасовны паслись и у меня и у соседа-драча, где часто их обижали шальные собаки. Из-за этих коз и собак отношения соседей были невозможные. Немедленно я обставил весь свои участок хорошим забором на дубовых столбах, кости выбросил, пустырь распахал и отделил коз от собак.
В то время у меня были такие охотничьи собаки: Ярик — ирландский сеттер; Кента —немецкая легавая, континенталь; дети Кенты — годовые щенки Нерль, Дубец и гончий Соловей. Все эти собаки, свободно разгуливая на обгороженном участке, время от времени выкапывали лошадиные кости, возились с ними, ворчали друг на друга.
Заметив кость у собак, я немедленно отнимал её и швырял через забор обратно к соседу. Мало-помалу таким образом были уничтожены все следы прошлого беспорядка, после чего мы купили петуха, и всё пошло хорошо: петух закричал, и дом наш начал жить.
В летнее время, между весенней и осенней охотой, я писал свои рассказы под единственной липой на огороде, возле забора, на простом столике с врытыми в землю ножками. Над столиком у меня висела трапеция; пописав, я кувыркался, подтягивался, поливал огурцы, тут же пил чай, опять писал, и так жизнь проходила, как мне желалось. Одно было неважно, что собаки мне очень мешали писать.
Это понятно, что я был для них притягательным центром: они возле меня то играли, то ссорились и пыль поднимали ужасную. Надо бы их разогнать, но как-то всё не мог собраться круто расправиться с друзьями, тем более что глядеть на игры их мне иногда бывало интересней, чем даже писать. Пылища при играх душила меня, при ссорах обиженные жались к моим коленкам. Я должен судить, наказывать виновных. Так по слабости запускал отношения с собаками, а потом злился, и это больше всего мешало моим занятиям.
Случилось однажды: Кента недалеко от липы выкопала из-под земли лошадиное копыто, давно обглоданное, без всяких признаков какой-нибудь съедобности, голое копыто из рогового вещества, с железной заржавевшей подковой, с «конскими», пробитыми через «венец» и снаружи загнутыми гвоздями.
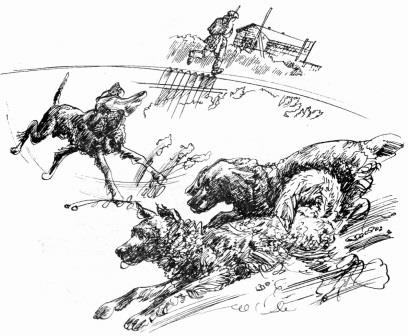 Рис. Л.Никитина
Рис. Л.Никитина
Увидев такую дрянь, я хотел было швырнуть её соседу через забор, но меня остановило страшное выражение глаз умной Кенты. Она глядела на старое, выветренное копыто с тем суеверным страхом, с каким глядят дети и необразованные люди на непонятные вещи. Поведение Кенты обратило внимание всех собак, и все они медленно и с опаской стали к ней подходить.
Увидев близко от себя собак, Кента оскалила зубы, порычала, собаки замерли на месте. Немного поколебалась Кента и, разинув пасть так сильно, что даже мне стало страшно, захватила копыто и с ним залезла ко мне под столик, легла в львиной позе, а копыто положила между передними лапами.
Собаки медленно, как загипнотизированные, двинулись к столику, дошли до какой-то невидимой черты, распределились по ней полукругом, и, созерцая копыто, легли в тех же позах, как и обладательница открытого сокровища. При малейшем движении кого-нибудь вперёд за установленную черту Кента злобно рычала, и нарушитель границы, поджав хвост, возвращался назад.
Вскоре я убедился, что организация спокойствия вокруг моего письменного стола — не случайное и не временное дело. Будь копыто хоть сколько-нибудь съедобным, напряжённость собак была бы слишком велика и при первой оплошности Кенты началась бы грызня, да, наконец, сама Кента стала бы грызть копыто, и в конце концов оно было бы, как обыкновенная обглоданная и обветренная кость. Возможно, что для собачьего носа от вещества копыта, недоступного даже для собачьих зубов, исходил какой-то животный соблазнительный дух, и только благодаря такой «духовности» власть Кенты над другими собаками осуществлялась в полной тишине, спокойствии и неограниченной длительности.
 Рис. Л.Никитина
Рис. Л.Никитина
У моих собак нет ни малейшего сомнения в существовании бога: бог — это я. И всё сущее на земле, в том числе и копыто, произошло от меня. Бог дал, и бог взял. Так вот, окончив работу, я беру копыто и уношу с собой. На другой день вместе с бумагами и книгами я захватываю с собой из дому хранимое в особом плетёном ящичке копыто.
Никого я из собак не обижаю и передаю власть им всем по очереди. Выбрав очередного верховного властителя, я укладываю его под столом возле моих ног, и все другие собаки, хорошо усвоив порядок, укладываются возле столика, полукругом, принимая те самые львиные позы, благодаря которым можно мгновенно вскочить и выхватить копыто у зазевавшейся Кенты. Так, уложив собак, я открываю сейф, вынимаю сокровище, очередной счастливец начинает властвовать, а я в тишине занимаюсь своими рассказами о повадках животных.
Прошло двенадцать лет. Все собаки мои описаны: Ярик, Кента, Нерль, Дубец, Соловей. Множество книжек о них для взрослых, для детей разошлось по нашей стране, и некоторые начинают перебираться за границу. Мало того: встречаются охотники, называющие этими моими именами собственных собак. И сколько дружеских писем, сколько друзей!
Всё это, конечно, очень хорошо, и одно только плохо: всех описанных собак нет уже на свете; они создали мне дружбу с людьми и ушли навсегда. Кента умерла от сердечной болезни, и вскоре за ней внезапно от той же наследственной болезни погибли Нерль и Дубец. Соловей умер, как умирают только самые лучшие гонцы-мастера: на всём ходу за лисицей старика хватил паралич. Рассказывать о конце Ярика мне пока тяжело.
Так вот кончились мои собаки, и от знаменитого сейфа осталась только плетёная коробочка вятской работы. Копыто же не только пропало, но я о нём даже забыл. По всей вероятности, кто-нибудь из моих домашних, перебирая мои хлам, выбросил эту дрянь на помойку.
На днях сижу я под своей липой, за тем же самым столиком. Четырёхмесячный щенок, пойнтер, блестящей, черной масти, Осман, возится со своей матерью Ладой и сибирской лайкой Бией, принимает участие в этой непрерывной возне иногда даже молодой гончий, чрезвычайно поратый (поратость – прыть, сила в беге) англо-русский Трубач.
Пыль висит в воздухе, нечем дышать. Вдруг игра обрывается, и Лада начинает копать, быстро работая передними лапами. Сын её Осман ей смешно подражает. Остальные собаки стоят в недоумении. И вот с тем же странным выражением, как было у Кенты, Лада глядит вниз и грозным оскалом зубов и рычанием отгоняет собак. Осман один только не слушается, но за это здорово ему попадает; обиженный бросается к моим ногам и визжит.
Так вновь было откопано и появилось на свет знаменитое копыто с железной подковой. И опять, конечно, я заключаю его в сейф, и каждый день назначаю очередных собак верховными властителями. В тишине организованного мирка я пишу о своих новых собаках, но, признаюсь, чего-то мне не хватает.
Да, никогда не вернуть теперь мне любимую Кенту, и только теперь мне стала вполне понятна примета старых охотников, что настоящая собака у охотника бывает только одна.
Вот кто-то постучал в калитку. Разве в своё время Кента, услыхав стук, могла броситься к воротам и оставить на произвол судьбы таинственное сокровище?! Она бы только рычала в ответ на стук у ворот. А Лада опрометью летит к воротам и увлекает всех собак за собой.
Мне удалось задержать только маленького Османа, показать ему рукой на копыто, вообще, дать понять, что пока нет никого, он легко может захватить власть. Мне было очень забавно представить себе, как этот маленький Осман с помощью копыта будет управлять большими собаками. Осман понял меня и начал тихонечко подходить. Однако, вспомнив недавнюю трёпку за это копыто, он остановился и пытался, не переступая ногами, как-нибудь безопасно дотянуться хоть носом: понюхать и, если не страшно, остаться, а если окажется плохо, бежать.
— Вперёд! — приказываю.
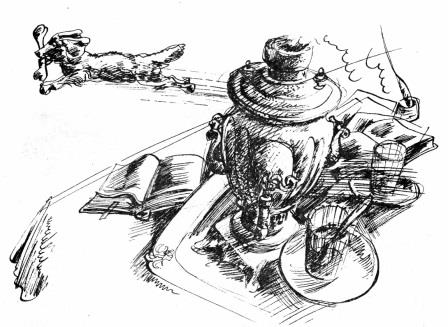 Рис. Л.Никитина
Рис. Л.Никитина
Посунулся.
— Смелее!
Задрожал. Вытянулся, насколько возможно, и, по-видимому, достиг носом недоступной нам атмосферы копыта. Однако, втянув в себя воздух собственности, он вдруг весь опал, поджал под себя свои прутик, бросился назад и спрятался в высоком картофельнике.
Собаки вернулись. Лада хватилась. Но я кончил работу и спрятал сокровище в сейф. Вот когда только опомнился от страха Осман, высунул голову из зелени и забрехал.
ЕЖОВЫЕ РУКАВИЦЫ
(М. Пришвин)
Собака, всё равно как и лисица и кошка, подбирается к добыче. И вдруг замрёт. Это у охотников называется стойкой.
Собака только стоит и указывает, а человек при взлёте стреляет. Если же собака при взлёте бежит, это не охота. За одной побежит — другую спугнёт, третью, да ещё и с лаем пустится по болоту турить — охотнику так ничего и не достанется.
Учил я Ромку, чтобы не гонять, и не мог научить.
— Некультурен! — сказал мне однажды егерь Кирсан.
— Как же быть с некультурностью? — спросил я.
Кирсан очень странно ответил:
— Некультурность у собак надо ежом изгонять.
Нашли мы ежа. Я пустил Ромку в тетеревиные места, и скоро он стал по тетёрке.
Я позади Ромки стал, а Кирсан с ежом сбоку. Приказываю:
— Вперёд!
Ромка с лапки на лапку: раз, два, три...
— Ту-ту-ту! — вылетела.
— Назад! — кричу Ромке.
Ничего не помнит, ничего не слышит. Бросился. И тут-то Кирсан на прыжке сбоку прямо на нос ему ежа. Ромка опомнился, взвизгнул — и на ежа. А ёж ему своими колючками ещё здорово поддал. И мы на Ромку и приговариваем:
— Помни ежа, помни ежа!
С тех пор, когда птица взлетает, я говорю негромко:
— Ромка, помни ежа!
Он и опомнится.
Однажды я спросил Кирсана:
— Как это вы, Кирсан Николаевич, пришли к такой догадке, чтобы некультурность ежом изгонять?
— С себя самого перевёл, Михайло Михайлович, — ответил Кирсан. — В детстве соседям окна бил из рогатки. Раз поймали меня и говорят: «Этого мальчишку надо взять в ежовые рукавицы!» И взяли. А потом это с себя я на собак перевёл с большой пользой
ХРОМКА
(М. Пришвин)
 Рис. Л.Никитина
Рис. Л.Никитина
Плыву на лодочке, а за мной по воде плывёт Хромка — моя подсадная охотничья уточка. Эта уточка вышла из диких уток, а теперь она служит мне, человеку, и своим утиным криком подманивает в мой охотничий шалаш диких селезней.
Куда я ни поплыву, всюду за мной плывёт Хромка. Займётся чем-нибудь в заводи,скроюсь я за поворотом от неё, крикну: «Хромка!» — и она бросит всё и подлетает опять к моей лодочке. И опять, куда я, туда и она.
Горе нам было с этой Хромкой! Когда вывелись утята, мы первое время держали их в кухне. Это пронюхала крыса, прогрызла дырку в углу и ворвалась. На утиный крик мы прибежали как раз в то время, когда крыса тащила утёнка за лапку в свою дырку. Утёнок застрял, крыса убежала, дырку забили, но только лапка у нашего утёнка осталась сломанная.
Много трудов положили мы, чтобы вылечить лапку: связывали, бинтовали, примачивали, присыпали — ничего не помогло: утёнок остался хромым навсегда.
Горе хромому в мире всяких зверушек и птиц: у них что-то вроде закона — больных не лечить, слабого не жалеть, а убивать. Свои же утки, куры, индюшки, гуси — все норовят тюкнуть Хромку. Особенно страшны были гуси. И что ему, кажется, великану, такая безделушка — утёнок, — нет, и гусь с высоты своей норовит обрушиться на каплюшку и сплюснуть, как паровой молот.
Какой умишко может быть у маленького хромого утёнка? Но всё-таки и он своей головёнкой величиной с лесной орех сообразил, что единственное спасание его — в человеке. И нам по-человечески было жалко его: эти беспощадные птицы всех пород хотят лишить его жизни, а чем он виноват, если крыса вывернула ему лапку?
И мы по-человечески полюбили маленькую Хромку.
Мы взяли её под защиту, и она стала ходить за нами и только за нами. И, когда выросла она большая, нам не нужно было ей, как другим уткам, подстригать крылья. Другие утки — дикари — считали дикую природу своей родиной и всегда стремились туда улететь. Хромке некуда было улетать от нас. Дом человека стал её домом. Так Хромка в люди вышла.
Вот почему теперь, когда я плыву на лодочке своей на утиную охоту, моя уточка и сама плывёт за мной. Отстанет, снимается с воды и подлетает. Займётся рыбкой в заводи, заверну я за кусты, скроюсь и только крикну: «Хромка!», вижу — летит моя птица ко мне.
ЖУРКА
(М. Пришвин)
 Рис. Л.Никитина
Рис. Л.Никитина
Раз было у нас — поймали мы молодого журавля и дали ему лягушку. Он её проглотил. Дали другую — проглотил. Трётью, четвёртую, пятую, а больше тогда лягушек у нас под рукой не было.
— Умница! — сказала моя жена и спросила меня: — А сколько он может съесть их? Десяток может?
— Десять, — говорю, – может.
— А ежели двадцать?
— Двадцать, — говорю, — едва ли...
Подрезали мы этому журавлю крылья, и стал он за женой всюду ходить. Она корову доить — и Журка с ней, она в огород — и Журке там надо, и тоже на полевые колхозные работы ходит с ней и за водой. Привыкла к нему жена, как к своему собственному ребёнку, и без него ей уж скучно, без него никуда. Но только ежили случится — нет его, крикнет только: «Фру-фру!», и он к ней бежит. Такой умница.
Так живёт у нас журавль, а подрезанные крылья его всё растут и растут.
Раз пошла жена за водой, к болоту, и Журка за ней.
 Рис. Л.Никитина
Рис. Л.Никитина
Лягушонок небольшой сидел у колодца и прыг от Журки в болото. Журка за ним, а вода глубокая, и с берега до лягушонка не дотянешься. Мах-мах крыльями Журка и вдруг полетел. Жена ахнула — и за ним. Мах-мах руками, а подняться не может. И в слёзы, и к нам: «Ах-ах, горе какое! Ах, ах!» Мы все прибежали к колодцу. Видим, Журка далеко, на середине нашего болота сидит.
— Фру-фру! — кричу я.
И все ребята за мной тоже кричат:
— Фру-фру!
И такой умница! Как только услыхал он это наше «фру-фру», сейчас мах-мах крыльями и прилетел. Тут уж жена себя не помнит от радости, велит ребятам бежать скорее за лягушками. В этот год лягушек было множество, ребята скоро набрали два картуза. Принесли ребята лягушек, стали давать и считать. Дали пять — проглотил,. дали десять — проглотил, двадцать и тридцать, — да вот так и проглотил за один раз сорок три лягушки.
БОРЕЦ И ПЛАКСА
(М. Пришвин)
 Рис. Л.Никитина
Рис. Л.Никитина
Почему-то вышло так в Московском зоопарке, что беременности медведицы Плаксы никто не заметил и оставили её зимовать без всяких приготовлений для родов; даже соломки ей не подстелили.
Проморгали граждане! Огромный бурый медведь Борец устроился жить в углублении стены, в нише, а самка его, Плакса, легла открыто напротив, у другой стены.
Выбрав себе место повыше, хотя и под открытым нёбом, Плакса выгадала: зимой при первой же оттепели в нишу набежала вода, Борец там подплыл. Посреди медвежьей площадки росло большое дерево, обитое железом, чтобы медведи, когда им захочется почесаться, не портили кору.
Борец теперь, при крайней своей беде, отодрал всё железо, слупил кору и принялся таскать её к себе в мокрую берлогу. Драл он с дерева, сколько лишь мог только надрать, забрался на самую верхушку; свалился оттуда на бетонный пол, ушибся, долго тёр ушибленное место лапой, сердился, ворчал и, наконец, отнёс последний материал в берлогу и лёг на корьё.
Вот наступили и самые роды. Служащие Зоопарка, никак не ожидавшие такого события, поспешили сверху свалить Плаксе огромную вязанку соломы. Конечно, она очень обрадовалась подстилке и скоро на ней отлично устроилась. А Борец тоже почему-то не остался равнодушным — медленно направился к гнезду.
Наблюдатели очень встревожились, опасаясь, что Борец хочет отнять у Плаксы и задавить медвежат. Плакса, конечно, сразу же обратила внимание на поведение супруга и допустила его дойти только до середины площадки. Внезапно она встала, быстро подошла к нему и дала ему такую затрещину по морде, что огромный медведь свалился и закрыл побитую голову лапами.
Тогда медведица вернулась к медвежатам, легла, но глаз своих, ни на мгновенье не сводила с побитого мужа. Отдохнув немного, Борец не встал, а пополз на брюхе: подвинется на полшага, взглянет на неё, прочтёт в глазах запрещение и опять ляжет, а потом опять жуликом подастся на полшага вперёд, дальше, да так вот и подобрался к самой берлоге.
Так он обманул бдительность Плаксы покорностью, готовностью от одного только её косого взгляда ткнуться рылом и закрыть себе морду лапами. Она до того успокоилась что, наконец, решилась обернуться к малышам и, не глядя на разбойника, принялась их облизывать.
Вот тут-то, выждав благоприятный момент, Борец молниеносно вскочил, сгрёб передними лапами солому и, высоко держа над собой копну, на одних задних лапах быстро промчал её к себе в берлогу, постелил поверх сырого, неприятно колючего корья и успокоенно лёг. Поди-ка медведица, подойди теперь к нему! Куда тут!
Ободранное дерево и теперь стоит. Плакса на том же месте, где родила, теперь играет с молодым медведем. Очень часто кто-нибудь из публики спрашивает, зачем это медведям понадобилось ободрать это дерево. Тогда, бывает, кто-нибудь станет рассказывать о семейных повадках медведей и после рассказа выведет:
— Нечего сказать, отцы! Вот так отцы!