БУКВА «ТЫ»
(Л. Пантелеев)
 Рис. И. Харкевича
Рис. И. Харкевича
Учил я когда-то одну маленькую девочку читать и писать. Девочку звали Иринушка, было ей четыре года пять месяцев, и была она большая умница.
За каких-нибудь десять дней мы одолели с ней всю русскую азбуку, могли уже свободно читать и «папа», и «мама», и «Саша», и «Маша», и оставалась у нас невыученной одна только самая последняя буква — «я».
И тут вот, на этой последней буковке, мы вдруг с Иринушкой и споткнулись.
Я, как всегда, показал букву, дал ей как следует её рассмотреть и сказал:
— А это вот, Иринушка, буква «я».
Иринушка с удивлением на меня посмотрела и говорит:
— Ты?
— Почему «ты»? Что за «ты»? Я же сказал тебе: это буква «я».
— Буква «ты»?
— Да не «ты», а «я».
Она ещё больше удивилась и говорит:
— Я и говорю: ты.
— Да не я, а буква «я».
— Не ты, а буква «ты»?
— Ох, Иринушка, Иринушка. Наверно, мы, голубушка, с тобой немного переучились. Неужели ты в самом деле не понимаешь, что это не я, а что это буква так называется — «я»?
— Нет, — говорит, — почему не понимаю? Я понимаю.
— Что ты понимаешь?
— Это не ты, а это буква так называется — «ты».
Фу! Ну в самом деле, ну что ты с ней поделаешь? Как же, скажите на милость, ей объяснить, что я — это не я, ты — не ты, она — не она и что вообще «я» — это только буква?
 Рис. И. Харкевича
Рис. И. Харкевича
— Ну, вот что, — сказал я наконец, — ну, давай скажи как будто про себя: я. Понимаешь? Про себя. Как ты про себя говоришь.
Она поняла как будто. Кивнула. Потом спрашивает:
— Говорить?
— Ну-ну... конечно.
Вижу — молчит. Опустила голову. Губами шевелит.
Я говорю:
— Ну, что же ты?
— Я сказала.
— А я не слышал, что ты сказала.
— Ты же мне велел про себя говорить. Вот я потихоньку и говорю.
— Что же ты говоришь?
Она оглянулась и шёпотом — на ухо мне:
— Ты!..
Я не выдержал, вскочил, схватился за голову и забегал по комнате.
Внутри у меня уже всё кипело, как вода в чайнике. А бедная Иринушка сидела, склонившись над букварём, искоса посматривала на меня и жалобно сопела. Ей, наверно, было стыдно, что она такая бестолковая.
Но и мне тоже было стыдно, что я — большой человек — не могу научить маленького человека правильно читать такую простую букву, как буква «я».
Наконец я придумал всё-таки. Я быстро подошёл к девочке, ткнул её пальцем в нос и спрашиваю:
— Это кто?
Она говорит:
— Это я.
— Ну вот... Понимаешь? А это буква «я».
Она говорит:
— Понимаю...
А у самой уж, вижу, и губы дрожат, и носик сморщился — вот-вот заплачет.
— Что же ты,— я спрашиваю,— понимаешь?
— Понимаю, — говорит, — что это я.
— Правильно. Молодец. А это вот буква «я». Ясно?
— Ясно, — говорит. — Это буква «ты».
— Да не «ты», а «я»!
— Не я, а ты.
— Не я, а буква «я»!
— Не ты, а буква «ты».
— Не буква «ты», господи боже мой, а буква «я»!
— Не буква «я», господи боже мой, а буква «ты».
Я опять вскочил и опять забегал по комнате.
— Нет такой буквы! — закричал я. — Пойми ты, бестолковая девчонка! Нет и не может быть такой буквы! Есть буква «я». Понимаешь? Я! Буква «я»! Изволь повторять за мной: я! я! я!..
— Ты, ты, ты, — пролепетала она, едва разжимая губы.
Потом уронила голову на стол и заплакала. Да так громко и так жалобно, что весь мой гнев сразу остыл. Мне стало жалко её.
— Хорошо, — сказал я. — Как видно, мы с тобой и в самом деле немного заработались. Возьми свои книги и тетрадки и можешь идти гулять. На сегодня — хватит.
Она кое-как запихала в сумочку своё барахлишко и, ни слова мне не сказав, спотыкаясь и всхлипывая, вышла из комнаты.
А я, оставшись один, задумался: что же делать? Как же мы в конце концов перешагнём через эту проклятую букву «я»?
«Ладно, — решил я. — Забудем о ней. Ну её. Начнём следующий урок прямо с чтения. Может быть, так лучше будет».
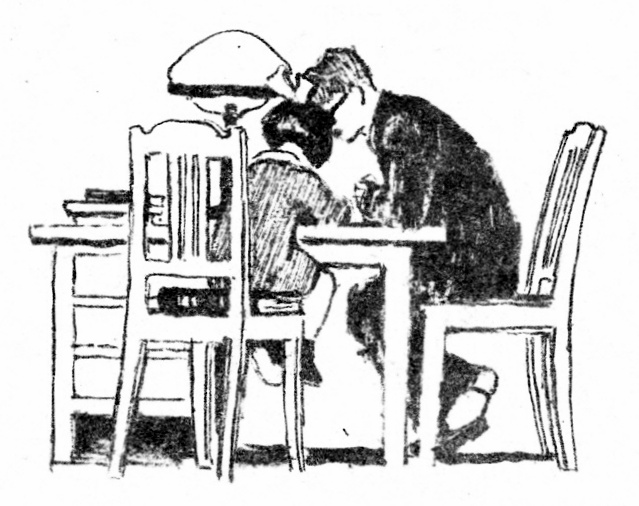 Рис. И. Харкевича
Рис. И. Харкевича
И на другой день, когда Иринушка, весёлая и раскрасневшаяся после игры, пришла на урок, я не стал ей напоминать о вчерашнем, а просто посадил её за букварь, открыл первую попавшуюся страницу и сказал:
— А ну, сударыня, давайте-ка почитайте мне что-нибудь.
Она, как всегда перед чтением, поёрзала на стуле, вздохнула, уткнулась и пальцем и носиком в страницу и, пошевелив губами, бегло, не переводя дыхания, прочла:
— Тыкову дали тыблоко.
От удивления я даже на стуле подскочил:
— Что такое?! Какому тыкову? Какое тыблоко? Что ещё за тыблоко?
Посмотрел в букварь, а там чёрным по белому написано: «Якову дали яблоко».
Вам смешно? Я тоже, конечно, посмеялся. А потом говорю:
— Яблоко, Иринушка! Яблоко, а не тыблоко!
Она удивилась и говорит:
— Яблоко? Так, значит, это буква «я»?
Я уже хотел сказать: «Ну конечно, «я»!
А потом спохватился и думаю: «Нет, голубушка. Знаем мы вас. Если скажу «я» —значит, опять пошло-поехало! Нет, уж сейчас мы на эту удочку не попадёмся»
И я сказал:
— Да, правильно. Это буква «ты».
Конечно, не очень-то хорошо говорить неправду. Даже очень нехорошо говорить неправду. Но что же поделаешь? Если бы я сказал «я», а не «ты», кто знает, чем бы всё это кончилось. И может быть, бедная Иринушка так всю жизнь и говорила бы: вместо «яблоко» — «тыблоко», вместо «ярмарка» — «тырмарка», вместо «якорь» — «тыкорь» и вместо «язык» — «тызык». А Иринушка, слава богу, выросла уже большая, выговаривает все буквы правильно, как полагается, и пишет мне письма без одной ошибки.
ТРУС
(Л. Пантелеев)
 Рис. И. ХаркевичаДело было в Крыму. Один приезжий мальчик пошёл на море ловить удочкой рыбу.
Рис. И. ХаркевичаДело было в Крыму. Один приезжий мальчик пошёл на море ловить удочкой рыбу.
А там был очень высокий, крутой, скользкий берег. Мальчик начал спускаться, потом посмотрел вниз, увидел под собой огромные острые камни и испугался.
Остановился и с места не может сдвинуться. Ни назад, ни вниз. Вцепился в какой-то колючий кустик, сидит на корточках и дышать боится.
А внизу, в море, в это время колхозник-рыбак ловил рыбу. И с ним в лодке была девочка, его дочка. Она всё видела и поняла, что мальчик трусит. Она стала смеяться и показывать на него пальцем.
Мальчику было стыдно, но он ничего не мог с собой сделать. Он только стал притворяться, будто сидит просто так и будто ему очень жарко. Он даже снял шапку и стал ею махать около своего носа.
Вдруг подул ветер, вырвал у мальчика из рук удочку и бросил её вниз.
 Рис. И. Харкевича
Рис. И. Харкевича
Мальчику было жаль удочки, он попробовал ползти вниз, но опять у него ничего не вышло.
А девочка всё это видела. Она сказала отцу, тот посмотрел наверх и что-то сказал ей.
Вдруг девочка спрыгнула в воду и зашагала к берегу. Взяла удочку и пошла обратно к лодке.
Мальчик так рассердился, что забыл всё на свете и кубарем покатился вниз.
— Эй! Отдавай! Это моя удочка! — закричал он и схватил девочку за руку.
— На, возьми, пожалуйста,— сказала девочка. — Мне твоя удочка не нужна. Я нарочно её взяла, чтобы ты слез вниз. Мальчик удивился и говорит:
— А ты почём знала, что я слезу?
— А это мне папа сказал. Он говорит: если трус, то, наверно, и жадина.
ДВЕ ЛЯГУШКИ
(Л. Пантелеев)
 Рис. И. Харкевича
Рис. И. Харкевича
Жили-были две лягушки. Были они подруги и жили в одной канаве. Но только одна из них была настоящая лесная лягушка — храбрая, сильная, весёлая, а другая была ни то ни сё: трусиха была, лентяйка, соня. Про неё даже говорили, будто она не в лесу, а где-то в городском парке родилась.
Но всё-таки они жили вместе, эти лягушки.
И вот однажды ночью вышли они погулять.
Идут себе по лесной дороге и вдруг видят — стоит дом. А около дома погреб. И из этого погреба очень вкусно пахнет: плесенью пахнет, сыростью, мохом, грибами. А это как раз то самое, что лягушки любят.
Вот забрались они поскорей в погреб, стали там бегать и прыгать. Прыгали, прыгали и нечаянно свалились в горшок со сметаной.
И стали тонуть.
А тонуть им, конечно, не хочется.
Тогда они стали барахтаться, стали плавать. Но у этого глиняного горшка были очень высокие скользкие стенки. И лягушкам оттуда никак не выбраться.
Та лягушка, что была лентяйкой, поплавала немножко, побултыхалась и думает:
«Всё равно мне отсюда не вылезти. Что ж я буду напрасно барахтаться. Уж лучше я сразу утону».
Подумала она так, перестала барахтаться — и утонула.
А вторая лягушка — та была не такая. Та думает:
«Нет, братцы, утонуть я всегда успею. Это от меня не уйдёт. А лучше я ещё побарахтаюсь, ещё поплаваю. Кто его знает, может быть, у меня что-нибудь и выйдет».
 Рис. И. ХаркевичаНо только — нет, ничего не выходит. Как ни плавай — далеко не уплывёшь. Горшок узенький, стенки скользкие, — не вылезти лягушке из сметаны.
Рис. И. ХаркевичаНо только — нет, ничего не выходит. Как ни плавай — далеко не уплывёшь. Горшок узенький, стенки скользкие, — не вылезти лягушке из сметаны.
Но всё-таки она не сдаётся, не унывает.
«Ничего, — думает, — пока силы есть, буду бороться. Я ведь ещё живая — значит, надо жить. А там — что будет».
И вот из последних сил борется наша храбрая лягушка со своей лягушечьей смертью. Уж вот она и сознание стала терять. Уж вот захлебнулась. Уж вот её ко дну тянет. А она и тут не сдаётся. Знай себе лапками работает. Дрыгает лапками и думает:
«Нет! Не сдамся! Шалишь, лягушечья смерть...»
И вдруг — что такое? Вдруг чувствует наша лягушка, что под ногами у неё уже не сметана, а что-то твёрдое, что-то такое крепкое, надёжное, вроде земли. Удивилась лягушка, посмотрела и видит: никакой сметаны в горшке уже нет, а стоит она на комке масла.
«Что такое? — думает лягушка. — Откуда здесь взялось масло?»
Удивилась она, а потом догадалась: ведь это она сама лапками своими из жидкой сметаны твёрдое масло сбила.
«Ну вот,— думает лягушка, — значит, я хорошо сделала, что сразу не утонула».
Подумала она так, выпрыгнула из горшка, отдохнула и поскакала к себе домой — в лес.
А вторая лягушка осталась лежать в горшке.
И никогда уж она, голубушка, больше не видела белого света, и никогда не прыгала, и никогда не квакала.
Ну что ж. Если говорить правду, так сама ты, лягушка, и виновата. Не падай духом! Не умирай раньше смерти...
ЧЕСТНОЕ СЛОВО
(Л. Пантелеев)
 Рис. И. Харкевича
Рис. И. Харкевича
Мне очень жаль, что я не могу вам сказать, как зовут этого маленького человека, и где он живёт, и кто его папа и мама. В потёмках я даже не успел как следует разглядеть его лицо. Я только помню, что нос у него был в веснушках и что штанишки у него были коротенькие и держались не на ремешке, а на таких лямочках, которые перекидываются через плечи и застёгиваются где-то на животе.
Как-то летом я зашёл в садик — я не знаю, как он называется, — на Васильевском острове, около белой церкви. Была у меня с собой интересная книга, я засиделся, зачитался и не заметил, как наступил вечер. Когда в глазах у меня зарябило и читать стало совсем трудно, я захлопнул книгу, поднялся и пошёл к выходу.
Сад уже опустел, на улицах мелькали огоньки, и где-то за деревьями звенел колокольчик сторожа.
Я боялся, что сад закроется, и шёл очень быстро.
Вдруг я остановился. Мне послышалось, что где-то в стороне, за кустами, кто-то плачет.
Я свернул на боковую дорожку — там белел в темноте небольшой каменный домик, какие бывают во всех городских садах, какая-то будка или сторожка. А около её стены стоял маленький мальчик лет семи или восьми и, опустив голову, громко и безутешно плакал.
Я подошёл и окликнул его:
— Эй, что с тобой, мальчик?
Он сразу, как по команде, перестал плакать, поднял голову, посмотрел на меня и сказал:
— Ничего.
— Как это ничего? Тебя кто обидел?
— Никто.
— Так чего ж ты плачешь?
Ему ещё трудно было говорить, он ещё не проглотил всех слёз, ещё всхлипывал, икал, шмыгал носом.
— Давай пошли, —с казал я ему. — Смотри, уже поздно, уже сад закрывается.
 Рис. И. ХаркевичаИ я хотел взять мальчика за руку. Но мальчик поспешно отдёрнул руку и сказал:
Рис. И. ХаркевичаИ я хотел взять мальчика за руку. Но мальчик поспешно отдёрнул руку и сказал:
— Не могу.
— Что не можешь?
— Идти не могу.
— Как? Почему? Что с тобой?
— Ничего, — сказал мальчик.
— Ты что — нездоров?
— Нет, — сказал он, — здоров.
— Так почему ж ты идти не можешь?
— Я часовой, — сказал он.
— Как часовой? Какой часовой?
— Ну, что вы — не понимаете? Мы играем.
— Да с кем же ты играешь?
Мальчик помолчал, вздохнул и сказал:
— Не знаю.
Тут я, признаться, подумал, что, наверное, мальчик всё-таки болен и что у него голова не в порядке.
— Послушай, — сказал я ему. — Что ты говоришь? Как же это так? Играешь и не знаешь с кем?
— Да, — сказал мальчик. — Не знаю. Я на скамейке сидел, а тут какие-то большие ребята подходят и говорят: «Хочешь играть в войну?» Я говорю: «Хочу». Стали играть, мне говорят: «Ты сержант». Один большой мальчик — он маршал был... он привёл меня сюда и говорит: «Тут у нас пороховой склад. А ты будешь часовой. Стой здесь, пока я тебя не сменю». Я говорю: «Хорошо». А он говорит: «Дай честное слово, что не уйдёшь».
— Ну?
— Ну, я и сказал: «Честное слово, не уйду».
— Ну и что?
— Ну и вот. Стою-стою, а они не идут.
 Рис. И. Харкевича
Рис. И. Харкевича
— Так! — улыбнулся я. — А давно они тебя сюда поставили?
— Ещё светло было.
— Так где же они?
Мальчик опять тяжело вздохнул и сказал:
— Я думаю, они ушли.
— Как ушли?
— Забыли.
— Так чего ж ты тогда стоишь?
— Я честное слово сказал...
Я уже хотел засмеяться, но потом спохватился и подумал, что смешного тут ничего нет и что мальчик совершенно прав. Если дал честное слово, так надо стоять, что бы ни случилось, — хоть лопни. А игра это или не игра — всё равно.
— Вот так история получилась! — сказал я ему. — Что же ты будешь делать?
— Не знаю, — сказал мальчик и опять заплакал.
Мне очень хотелось ему как-нибудь помочь. Но что я мог сделать? Идти искать этих глупых мальчишек, которые поставили его на караул, взяли с него честное слово, а сами убежали домой? Да где же их сейчас найдёшь, этих мальчишек! Они уж небось поужинали и спать легли, и десятые сны видят.
А человек на часах стоит. В темноте. И голодный небось.
— Ты, наверно, есть хочешь? — спросил я у него.
— Да, — сказал он, — хочу.
— Ну вот что, — сказал я, подумав. — Ты вали беги домой, поужинай, а я пока за тебя постою тут.
— Да, — сказал мальчик. — А это можно разве?
— Почему же нельзя?
— Вы же не военный.
Я почесал затылок и сказал:
— Правильно. Ничего не выйдет. Я даже не могу тебя снять с караула. Это может сделать только военный, только начальник...
И тут мне вдруг в голову пришла мысль. Я подумал, что если освободить мальчика от честного слова, снять его с караула может только военный — так в чём же дело? Надо, значит, идти искать военного.
Я ничего не сказал мальчику, только сказал: «Подожди минутку», — а сам, не теряя времени, побежал к выходу...
Ворота ещё не были закрыты, ещё сторож ходил где-то в самых дальних уголках сада и дозванивал там в свой колокольчик.
Я стал у ворот и долго поджидал, не пройдёт ли мимо какой-нибудь военный, какой-нибудь лейтенант или хотя бы рядовой красноармеец. Но, как назло, ни один военный не показывался на улице.
Вот было мелькнули на другой стороне улицы какие-то чёрные шинели, я обрадовался, подумал, что это военные моряки, перебежал улицу и увидел, что это не моряки, а мальчишки-ремесленники. Прошёл высокий железнодорожник в очень красивой шинели с ярко-малиновыми нашивками. Но и железнодорожник с его замечательной шинелью мне тоже был в эту минуту ни к чему.
Я уже хотел, не солоно хлебавши, возвращаться в сад, как вдруг увидел за углом, на трамвайной остановке, защитную командирскую фуражку с синим кавалерийским околышем. Кажется, ещё никогда в жизни я так не радовался, как обрадовался в эту минуту. Сломя голову я побежал к остановке.
И вдруг, не успел добежать, вижу — к остановке подходит трамвай и командир, молодой кавалерийский майор, вместе с остальной публикой собирается протискиваться в вагон.
 Рис. И. Харкевича
Рис. И. Харкевича
Запыхавшись, я подбежал к нему, схватил за руку и закричал:
— Товарищ майор! Подождите! Товарищ майор...
Он оглянулся, с удивлением на меня посмотрел и сказал:
— В чём дело?
— Видите ли, в чём дело, — сказал я.— Тут, в саду, около будки, на часах стоит мальчик... Он не может уйти, он дал честное слово... Он очень маленький... Он плачет.
Командир посмотрел на меня с испугом. Наверное, он тоже подумал, что я болен и что у меня голова не в порядке.
— При чём же тут я? — сказал он.
Трамвай его ушёл, и он смотрел на меня очень сердито.
Но когда я немножко подробнее объяснил ему, в чём дело, он не стал раздумывать и сразу сказал:
— Идёмте, идёмте. Конечно. Что ж вы мне сразу не сказали?
Когда мы подошли к саду, сторож как раз вешал на воротах замок. Я попросил его несколько минут подождать, сказал, что в саду у меня остался мальчик, и мы с майором побежали в глубину сада.
В темноте мы с трудом отыскали белую будку. Мальчик стоял на том же месте, где я его оставил, и опять, но на этот раз очень тихо, плакал. Я окликнул его. Он обрадовался, даже вскрикнул от радости, а я сказал:
— Ну вот, я привёл начальника.
Увидев командира, мальчик как-то весь выпрямился, вытянулся и стал на несколько сантиметров выше.
— Товарищ караульный, — сказал ему командир, — какое вы носите звание?
— Я сержант, — сказал мальчик.
— Товарищ сержант, приказываю оставить вверенный вам пост!
Мальчик помолчал, посопел носом и сказал:
 Рис. И. Харкевича
Рис. И. Харкевича
— А у вас какое звание? Я не вижу, сколько у вас звёздочек...
— Я майор.
И тогда мальчик приложил руку к широкому козырьку своей серенькой кепки и сказал:
— Есть, товарищ майор: приказано оставить пост.
И сказал это он так звонко и так ловко, что мы оба не выдержали и расхохотались. И мальчик тоже весело и с облегчением засмеялся.
Не успели мы втроём выйти из сада, как за нами хлопнули ворота и сторож несколько раз повернул в скважине ключ.
Майор протянул мальчику руку.
— Молодец, товарищ сержант, — сказал он.— Из тебя выйдет настоящий воин. До свиданья!
Мальчик что-то пробормотал и сказал:
— До свиданья...
А майор отдал нам обоим честь и, увидев, что опять подходит его трамвай, побежал к остановке.
Я тоже попрощался с мальчиком и пожал ему руку.
— Может быть, тебя проводить? — спросил я у него.
— Нет, я близко живу. Я не боюсь, — сказал мальчик.
Я посмотрел на его маленький веснушчатый нос и подумал, что ему действительно нечего бояться. Мальчик, у которого такая сильная воля и такое крепкое слово, не испугается темноты, не испугается хулиганов, не испугается и более страшных вещей.
А когда он вырастет... Ещё не известно, кем он будет, когда вырастет, но кем бы он ни был, можно ручаться, что это будет настоящий человек.
Я подумал так, и мне стало очень приятно, что я познакомился с этим мальчиком.
И я ещё раз крепко и с удовольствием пожал ему руку.